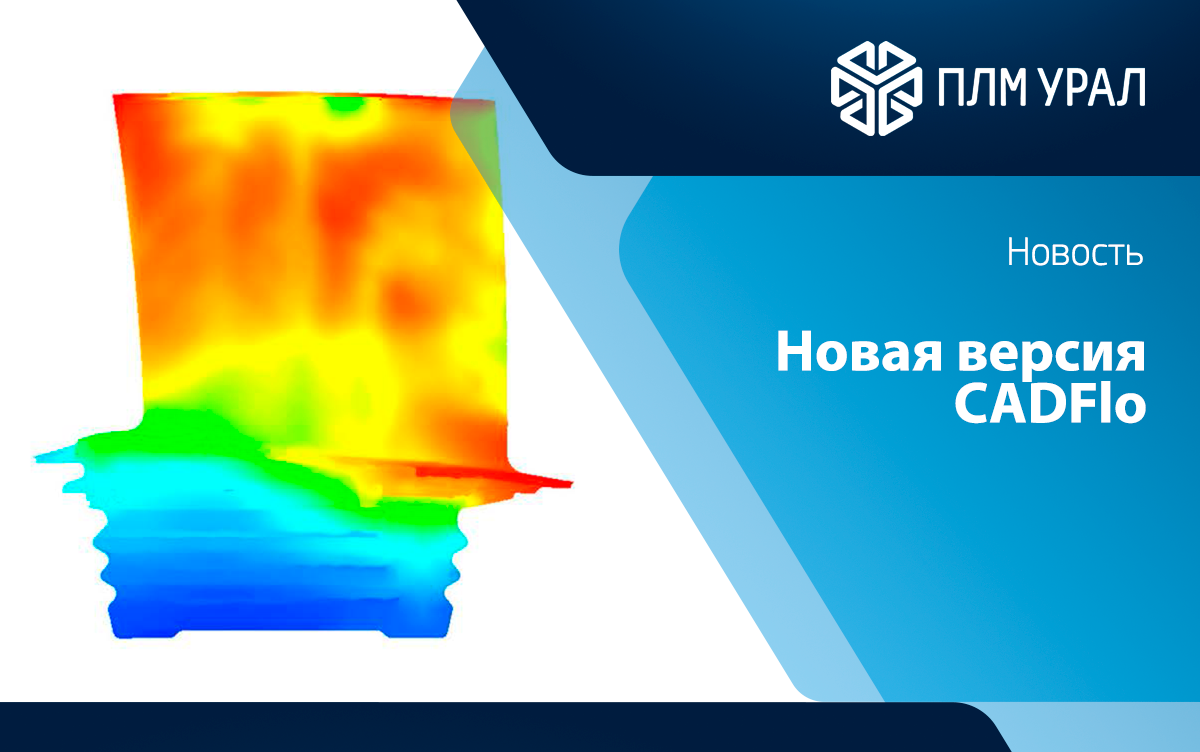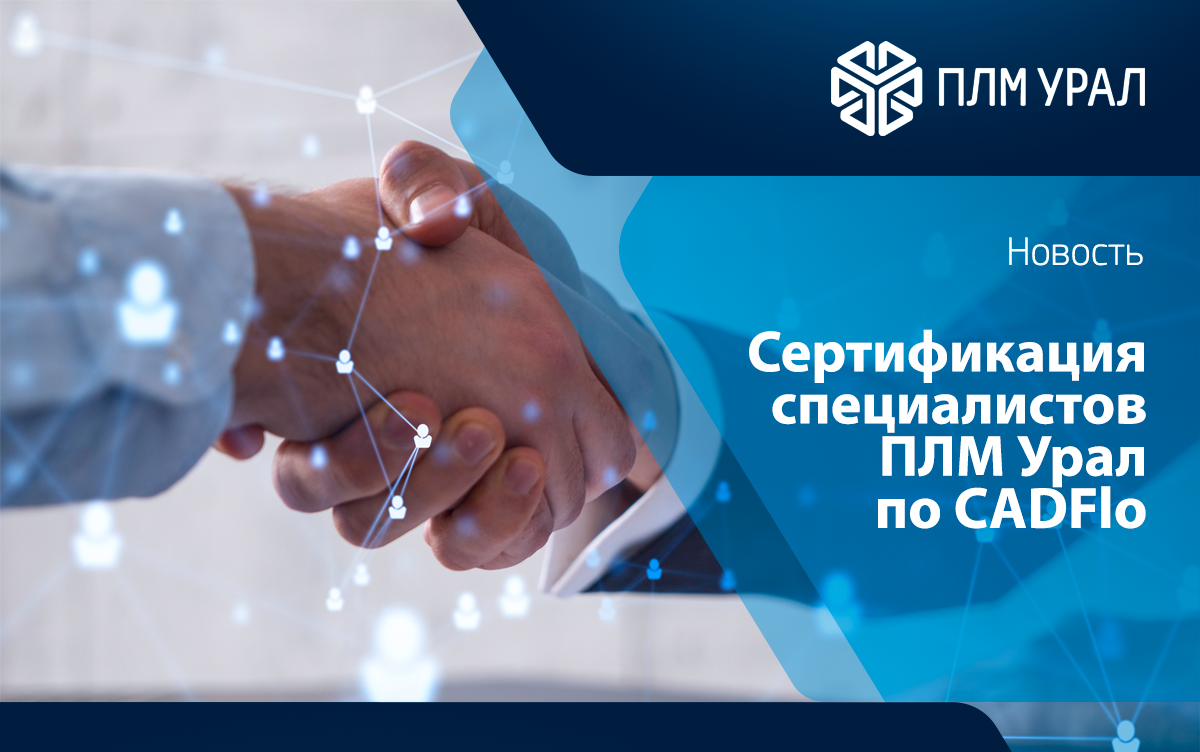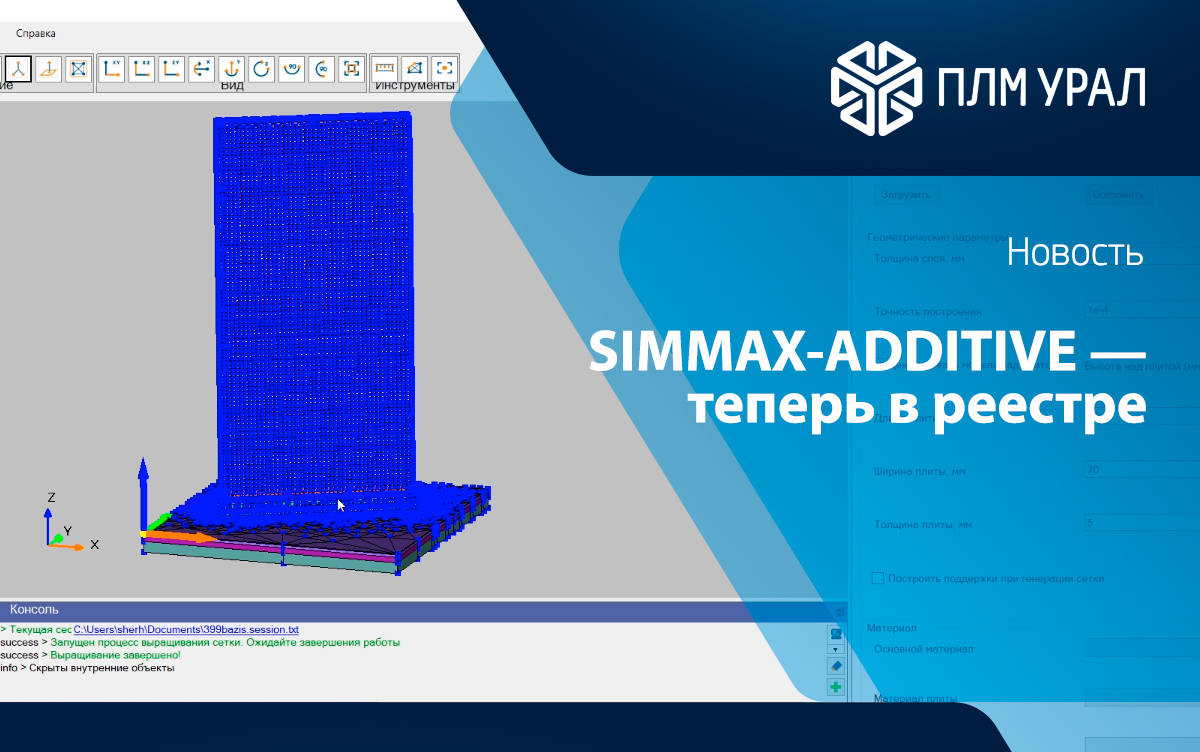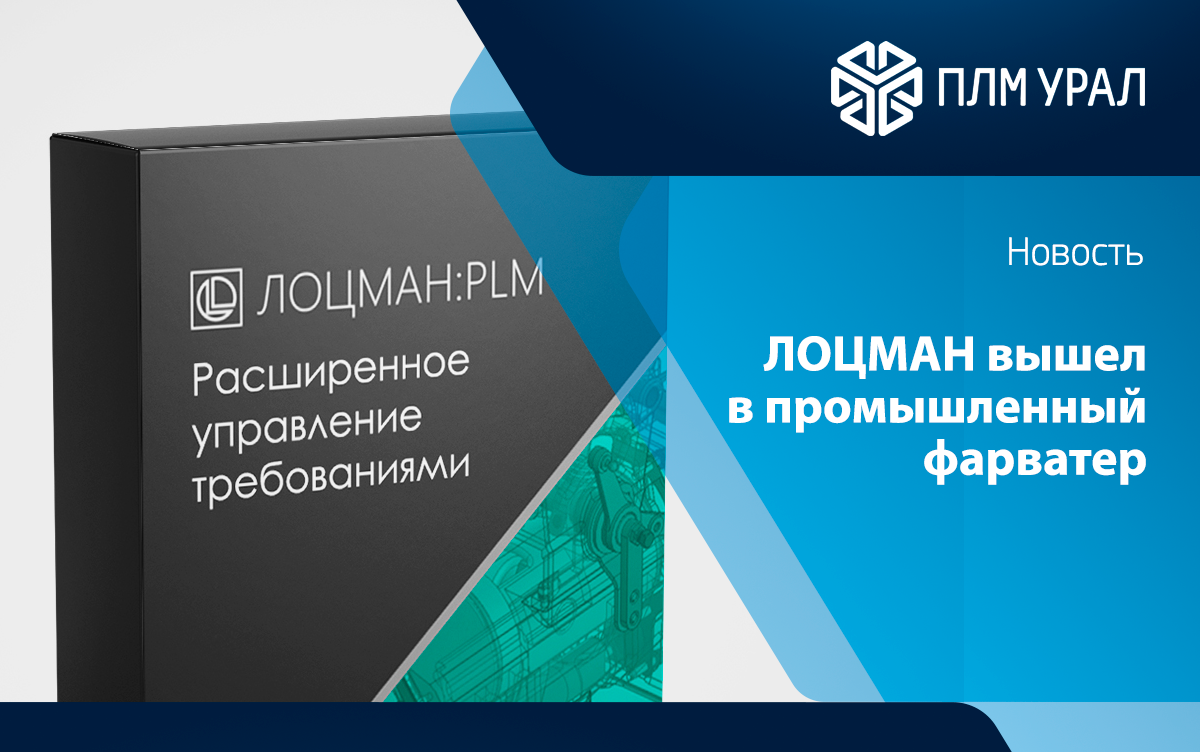Владимир Жураховский: «Мы единственная в России ИТ-компания, которая поставляет не только конструкторские, но и технологические расчетные системы»
О том, в чем действительно нуждается промышленность, как идет процесс импортозамещения, как работают меры господдержки, каковы позиции отечественных разработчиков и каких прорывов можно ожидать в области инженерного ПО, рассказал Владимир Георгиевич Жураховский, генеральный директор ГК «ПЛМ Урал», к. т. н. издательству журнала Connect.

Интервью для журнала «Connect».
Ядром отечественной перерабатывающей промышленности является машиностроение. Именно в нем сосредоточены ключевые вызовы, но там же сконцентрирован и огромный потенциал для роста промышленности.
Для сложных изделий машиностроения, содержащих десятки тысяч деталей, многие из которых при этом имеют сложную геометрию, требуются особые средства цифровизации. Речь, прежде всего, идет о комплексе CAD/ CAM/CAE/PLM-продуктов.
О том, в чем действительно нуждается промышленность, как идет процесс импортозамещения, как работают меры господдержки, каковы позиции отечественных разработчиков и каких прорывов можно ожидать в области инженерного ПО, рассказал Владимир Георгиевич Жураховский, генеральный директор ГК «ПЛМ Урал», к.т.н.
- Владимир Георгиевич, давайте начнем нашу беседу с краткой истории вашей компании и ее позициях на отечественном ИТ-рынке.
- Начало истории ГК «ПЛМ Урал» берет в 1993 г., когда два преподавателя кафедры «Технология машиностроения» Уральского политехнического института решили, что преподавание — дело бесперспективное, здесь их квалификация не нужна и не может быть достойно оплачена, поэтому необходимо найти другую точку приложения своих знаний. На данный момент мы — одни из крупнейших интеграторов в РФ, владеем передовыми PLM-технологиями, методиками проектирования, создания цифровых двойников, практиками системной инженерии, обеспечивающими существенное повышение эффективности для наших клиентов-машиностроителей. Мы позиционируем себя и как международный игрок. Урал, безусловно, наша родина, и начинали мы работать с теми, кто ближе. Но что самое интересное, один из первых контрактов был с «Иркутом». Сегодня в нашей базе заказчиков более 700 предприятий (среди которых КАМАЗ, «Уралвагонзавод», «Курганмашзавод», «Салют», «Сатурн», «Климов», «Иркут», «Туполев», «Силовые машины», УЗГА и др.), и с каждым годом она расширяется. Мы работаем также в Белоруссии и Казахстане. Мысли есть выходить в зарубежье — в Саудовскую Аравию, Китай, Африку.
В последнее время портфель продуктов значительно увеличен за счет поставки отечественного программного обеспечения. Также существенно расширены предложения по услугам инжиниринга.
- Что сегодня представляет собой ваша команда? В чем ее сильные стороны? Какими компетенциями в сфере ИТ, прикладных инженерных областях она обладает?
- Основная масса сотрудников — выпускники технических вузов, поработавшие в промышленности. Это — инженеры-машиностроители. Некоторые из них с ученой степенью. Есть и доктора наук — это внешние специалисты из Академии наук, Уральского федерального университета и других вузов, которые являются консультантами, они глубоко разбираются в физике, материаловедении, в металлургических процессах и т. д.
Среди российских поставщиков САПР мы являемся уникальными по сочетанию следующих параметров: широта поставляемых решений (более десяти вендоров) и размер компании (свыше 100 сотрудников, в том числе более 50-ти технических специалистов).
Мы единственная в России ИТ-компания, которая поставляет как конструкторские, так и технологические расчетные системы и обеспечивает их связку в единую цепочку. Это позволяет оптимизировать не только конструкцию, но и технологию (литье, ОМД, сварку, термообработку), а также учесть дефекты и напряжения, возникшие при изготовлении изделия в прочностных расчетах. Кроме того, мы компания «номер один» в плане разработки и внедрения в промышленннность практик системной инженерии, а также единственный в РФ разработчик софта для моделирования процессов сварки и аддитивного производства.
Более семи лет мы изучаем системную инженерию, последние несколько лет занимаемся ее внедрением на предприятиях. Это набор практик, который позволяет существенно повысить эффективность проектирования сложных технических изделий.
В основном мы работаем в области машиностроения, т. е. с предприятиями, которые разрабатывают и изготавливают сложную техническую продукцию: танки, автомобили, самолеты, спутники, двигатели авиационные и внутреннего сгорания, трансформаторы, электродвигатели. Любое сложное техническое изделие — наш конек.
- Как оцениваете процесс импортозамещения ПО в промышленности? Каковы прогнозы динамики этого процесса?
- Процесс импортозамещения программного обеспечения идет. Он реально идет, не на бумаге. Есть отдельные направления — например, системы программирования станков с ЧПУ, системы анализа процессов литья, обработки металлов давлением. Мы успешно внедряем их на предприятиях — они практически не уступают лучшим мировым образцам.
Также реализуем ПО собственной разработки — для анализа процессов сварки, термообработки и «аддитивки». Оно соответствует мировому уровню, поэтому здесь нет проблем с импортозамещением. Данные направления развиваются в России уже в течение 40 лет. Это системы локальные и при этом глубоко научные. Вот здесь нам доктора наук как раз и помогают.
Гораздо сложнее дела обстоят с крупными интегрированными PLM-комплексами класса hi-end, которые необходимы для эффективного проектирования сложных изделий уровня «автомобиль», «корабль», «самолет», «спутник», «авиадвигатель», «комбайн», «электровоз» и т. д., содержащих десятки тысяч компонентов. Тут присутствуют и механика, и электрика, и электроника. Огромные системы охватывают весь жизненный цикл и пишутся не 50-ю энтузиастами, а тысячами людей, которые работают над ними много лет. Здесь нет равноценной замены западным PLM-монстрам от Siemens и Dassault.
Согласно информации из открытых источников планы по созданию инженерного софта класса hi-end многократно озвучивались, но вот насколько реально их реализовать? Как инженер я понимаю, что для решения любой сложной задачи требуются ресурсы: деньги, люди соответствующей квалификации и время, много времени. Причем, если нужно преодолеть отставание от мирового уровня, например, в десять лет, то двигаться надо быстрее конкурентов. Наивно полагать, что за два-три года мы всех догоним.
И ресурсов догоняющим требуется существенно больше. А они у нас есть? К примеру, Siemens тратит несколько миллиардов долларов в год на развитие своего софта, включая оплату программистов, покупку стартапов, которые потом интегрируются в основную систему, на кооперацию с передовыми промпредприятиями, чтобы реализовать софт под современные технологии проектирования и изготовления изделий, на научно-инженерные исследования и т. д. Чтобы догнать и перегнать его, нужны как минимум сопоставимые инвестиции плюс люди c соответствующим опытом и т. д.
Это миллиарды долларов в год и тысячи программистов. Для промышленности возникает дилемма: переходить на отечественное и терять в производительности и качестве продукции или продолжать втихаря работать на импортном.
Поэтому отчитаться о выполнении импортозамещения предприятия, вероятно, смогут (хотя мне встрачалась цифра, что только 20% к 1 января 2025 выполнили указ Президента по критической инфраструктуре — то есть даже и отчитаться не получилось), но для реализации процесса «на деле», а не на бумаге потребуются еще долгие годы и огромные инвестиции.
- Ваша компания участвует в работе профильных ИЦК и реализации особо значимых проектов? Можно назвать ключевые устремления промышленности на текущем этапе?
- Появление ИЦК позволяет ускорить разработку «тяжелых» систем, потому что дает двойной эффект. Во-первых, вендоры получили хорошие деньги, и они могут ускорить разработку, мы уже говорили о ресурсах. Во-вторых, при написании системы надо базироваться на опыте проектирования, который сложился на передовых предприятиях.
Например, ИЦК «Двигателестроение» или «Общее машиностроение», в которых мы участвуем, — это как раз тот случай, когда предприятие дает техническое задание, и разработчики пишут под его требования. Там учитывается опыт работы предприятий с вышеупомянутыми системами «тяжелого» класса. Плюс предприятие делится своими практиками проектирования — как, какие методы желательно реализовать в софте.
Сейчас наблюдается тенденция активного импортозамещения особо важных направлений, например, PLM и CAE, и мы как один из крупных инженерных интеграторов на территории РФ активно участвуем в работе по внедрению и доработке программных продуктов. Кстати, наша компания в рамках ИЦК написала для «Асконы» модуль для реализации практик системной инженерии в их PLM-системе. По этому пункту мы уже подтягиваемся к «тяжелым» системам.
Что касается устремлений промышленности, то та же системная инженерия является мейнстримом последних нескольких лет. Еще одно актуальное направление — цифровой двойник и методы его создания. Активно идут разговоры об искусственном интеллекте и кое-что уже реализуется на базе машинного обучения.
 - Какие из инструментов господдержки вы оцениваете как наиболее эффективные и почему? Каких мер поддержки не хватает компании?
- Какие из инструментов господдержки вы оцениваете как наиболее эффективные и почему? Каких мер поддержки не хватает компании?
- Нашей компанией получены денежные средства из федерального бюджета на возмещение части затрат на разработку программных продуктов в целях производства высокотехнологичной продукции по постановлению № 529. В рамках данного конкурса разрабатывается программный продукт «SIMMAX-ADDITIVE». Окончание проекта запланировано на 2025 г. Также имеется опыт работы по постановлению № 550.
Не хватает субсидий на покупку отечественного ПО для предприятий малого и среднего бизнеса. Они вынуждены оставаться на старых иностранных продуктах, боясь терять время на перевод своих технологий и знаний на новые продукты.
Также хочу отметить, что на НИР и ОКР выделяются очень маленькие деньги. Но ведь именно на этом этапе закладывается качество изделия: оно будет высоким только в том случае, если НИР и ОКР сделаны качественно. А государство на это направление выделяет около 2% от бюджета проекта. На такие деньги качественного НИРа и ОКРа не провести. Соответственно, не финансируется и покупка софта для проектирования.
- В последнее время в сфере цифровизации промышленности и не только часто говорят о системной инженерии. Как понимаете данный термин, и во что это выливается в ваших проектах?
- Есть общепринятое определение, сформулированное международным советом по системной инженерии (INCOSE): «Системная инженерия — это междисциплинарный и интегративный подход, позволяющий успешно создавать, использовать и выводить из эксплуатации инженерные системы с применением системных принципов и концепций, а также научных, технологических и управленческих методов».
Мы с ним согласны, но для неподготовленного читателя это определение может быть непонятным. Если говорить простым языком, системная инженерия — это наука о том, как создавать успешные системы.
Чтобы создать успешную систему, нужно правильно и эффективно выстроить процессы ее жизненного цикла. И системная инженерия говорит, как их выстраивать, какие поддерживающие инструменты, методики и практики при этом использовать.
В настоящее время для управления жизненным циклом изделия применяются PLM-системы. Но их внедрение, как правило, заключается в переносе в информационную среду уже существующих у заказчика неэффективных процессов. Процессы, неэффективные «на бумаге», не будут эффективными в цифровой среде. В результате заказчик не получает особого эффекта от внедрения PLM-решений.
Наш подход — реинжиниринг существующих у заказчика процессов в соответствии с подходами системной инженерии и поддержка этих процессов существующими PLM-решениями. К сожалению, в PLM-решениях имеются архитектурные, идеологические и функциональные пробелы, которые приходится устранять, чтобы выстроить действительно эффективную систему поддержки процессов ЖЦИ. В частности, нам пришлось разработать модуль поддержки процессов архитектурного проектирования.
- Переходя к продуктовой линейке, давайте начнем с нового решения по сварке и термообработке Simmax. В чем его ноу-хау и уникальность, есть ли аналоги на рынке, какие зарубежные продукты он призван заместить? Началось ли его пилотирование, как оценивается его востребованность?
- Данное решение должно заместить иностранные решения, ушедшие с рынка, такие как ESI SYSWELD, SIMUFACT Welding. Основная идея заключалась не в том, чтобы просто скопировать функционал подобных решений, который зачастую был избыточен для пользователя, а в том, чтобы создать рабочий CAE-продукт, заточенный под наши предприятия.
Это продукт, позволяющий моделировать сам процесс сварки, отлаживать на компьютере технологию, последовательность и режимы сварки. Если зарубежный софт не совсем подходил для инженеров, а носил скорее исследовательский характер, то наш предназначен для инженеров-практиков. При этом важно подчеркнуть, что в его основе заложена наша научная школа.
Решение уже работает на ряде предприятий Росатома и Ростеха, в частности, на пермском предприятии «Авиадвигатель» и московском «Салюте». Помимо этого, ведется активная работа с вузами для предоставления инструмента молодым инженерам, что позволит ускорить развитие нашего продукта.
- Поделитесь, пожалуйста, планами относительно аддитивного производства. Какие разработки ведете, какова востребованность подобных решений, какие требования закладываете? Когда ожидается вывод продукта на рынок?
- Наше решение для аддитивного производства с нетерпением ждут крупнейшие российские предприятия. На данный момент на рынке нет отечественного CAE-продукта для моделирования и оптимизации техпроцесса в области SLM-печати и наплавки.
Первый релиз появится уже в конце августа 2025 года. По функционалу, прописанному в ТЗ, он будет превосходить все, что есть у зарубежных конкурентов.
Сейчас доступны зарубежные продукты, скажем так, общефизического расчета. Но при аддитивке происходят такие сложные фазовые превращения, что в обычном CАЕ-продукте это достаточно трудно моделировать. А в наших продуктах задаются общие понятные инженеру параметры и далее он ведет расчет процесса. Это специализированное решение под конкретные задачи.
Продукт рассчитан на инженера, проектирующего аддитивный процесс. Как «вырастить» изделие, какую толщину слоев задать, какая мощность лазера, какая фракция порошка, какая скорость движения луча и т. д. — для решения этих задач и создается наш продукт.
 - Как продвигаются разработки для архитектурного проектирования? Насколько интересны промышленности подобные решения? В чем сложность разработки таких продуктов? Какие отрасли промышленности получают максимальный эффект от их внедрения?
- Как продвигаются разработки для архитектурного проектирования? Насколько интересны промышленности подобные решения? В чем сложность разработки таких продуктов? Какие отрасли промышленности получают максимальный эффект от их внедрения?
- Мы разработали первую версию продукта «ЛОЦМАН: PLM Архитектурное проектирование», которое решает задачи разработки архитектуры технических систем в экосистеме «ЛОЦМАН: PLM». Продукт уже доступен потенциальным пользователям в прайс-листе компании «Аскон». Для пользователей других PLM-платформ или желающих разрабатывать архитектуру вне PLM у нас есть программный продукт «АрхиП», также решающий задачи формирования архитектурной модели технических систем. В заключительной стадии разработки находится модуль коллективной работы, который позволит работать над одной архитектурной моделью команде инженеров.
В сущности, наш продукт и реализует ту самую системную инженерию, когда мы проектируем изделие, начиная с архитектуры. Когда нам поступает ТЗ, мы должны «облечь» его в конструкцию, но сначала надо определить архитектуру. Рассматриваем один вариант, другой... Проигрываем разные конфигурации и компоновки. То есть выбираем «общую» архитектуру, как будет выглядеть изделие. Изделия еще нет, но архитектурное проектирование уже позволяет сформировать его облик и выбрать наилучший вариант конструкции, что дает возможность снизить риски конструкторских ошибок. Больших ошибок...
Основная сложность — собрать команду компетентных специалистов (архитекторов, аналитиков и программистов). На рынке очень мало кадров, знакомых с данной тематикой, людей приходится искать годами.
Что касается интереса промышленности, то мы вынуждены заниматься просветительской работой, объясняя потенциальным пользователям преимущества архитектурного подхода при проектировании сложных технических систем. Это тот самый элемент реинжиниринга существующих процессов, о котором я уже упоминал.
Максимальный эффект от внедрения инструментов и подходов разработки архитектуры получат предприятия, создающие сложные технические системы: разработчики автомобильной, авиационной, ракетной, космической техники, а также электронных систем и систем управления, судостроители и предприятия транспортного машиностроения.
- Каковы планы относительно разработки ПО для оценки надежности изделия? Какой должна быть функциональность подобного решения? Есть ли сегодня отечественные аналоги?
- В комплексных, моделеориентированных решениях для оценки безопасности и расчета надежности имеется большой пробел. Речь идет о решениях, которые были бы встроены в процессы проектирования, интегрированы в PLM-среду. Эти должны работать с требованиями еще на этапе разработки архитектуры. Подобные решения нужны везде, но особо востребованы в авиа- и автомобилестроении.
Таких отечественных решений сегодня нет. Раньше все пользовались продуктом от Ansys. У нас есть желание подобный продукт создать. Если нам удастся получить субсидию, сможем написать его за два—три года.
- Каков ваш взгляд на развитие концепции PLM в России? Как оцениваете перспективы появления полнофункциональных решений «тяжелого» класса и как к этому готовитесь? Разделяете ли мнение, что только объединив усилия ключевых разработчиков, можно добиться в этой сфере технологического суверенитета?
- В рамках интервью сложно дать развернутый ответ и осветить все аспекты развития PLM. Но считаю важным выделить некоторые из них.
У отечественных разработчиков PLM-решений основной объем работ сконцентрировали на расширении функционала уже существующих информационных систем по бесконечным требованиям разнообразных заказчиков. При таком подходе не следует ожидать принципиально новых решений, основанных на современных концепциях управления данными и программным обеспечением.
Кроме того, большинство PLM-решений, в том числе зарубежных, построены на устаревших архитектурах, которые с трудом обеспечивают целостную интеграцию всех PLM-компонентов. Без устранения архитектурных и идеологических противоречий невозможно решить функциональные проблемы. Все, что сейчас есть на рынке, имеет границы масштабирования функциональности.
Мировые лидеры инженерного программного обеспечения постоянно развивают свои продукты, привлекая тысячи разработчиков и затрачивая миллиарды долларов в год. Любая попытка создать собственную информационную систему на тех же принципах обрекает разработчика на вечную погоню и конкуренцию. Необходимо начать разрабатывать собственную систему на принципиально новых архитектурах и идеях. Это потребует проведения научно-исследовательских работ и проверки предложенных концепций, но как результат позволит сформировать информационную систему, с которой имеющиеся на рынке решения, ограниченные их архитектурами, принципиально не смогут конкурировать.
Требуется объединение усилий, но для этого нужны команды разработчиков, способных объективно увидеть ограничения в реализованных решениях. Необходима новая открытая архитектура, которая позволит один модуль писать одним, другой — другим и легко обмениваться данными.
В свое время разработчики SolidWorks — системы среднего уровня — создали CAD и, собственно, все. Они разработали классную систему моделирования, открытую архитектуру, предложили разработчикам встроиться напрямую в свою экосистему и образовали «программу партнерства», где были «золотые» партнеры, приложения которых напрямую встраивались в интерфейс SolidWorks и не было проблем с конвертацией данных. Пользователь даже не замечал, что работает не в основной системе, а в приложении, созданном другим разработчиком.
- Работу с каким системным ПО (ОС и СУБД) поддерживают ваши продукты? Как решаете, на какие ОС портировать продукт? Разделяете ли мнение о необходимости максимального развития экосистемного подхода?
Наши продукты для сварки и ТМО поддерживают работу под ОС на базе Linux (имеются сертификаты соответствия с одним из поставщиков таких решений). Решения для системной инженерии поддерживают работу с PostgreSQL, ведутся работы по созданию кросс-платформенных дистрибутивов.
- Многие эксперты видят большой потенциал применения нейросетевых алгоритмов в инженерном ПО (CAD, CAE, PLM). Когда стоит ожидать таких решений?
- Нейросетевые алгоритмы наверняка займут свою нишу в инженерном деле. Среди наших партнеров есть компании (Cyber Physics), которые используются для предиктивной аналитики оборудования и оптимизации технологических процессов. Однако это ни в коем случае не заменит труд инженера, без которого многие технологии потеряют свое ноу-хау.
- Сегодня ведущие разработчики наконец-то начали широкомасштабную работу с техническими вузами. Вы с кем сотрудничаете и в каких программах участвуете?
У нас налажено сотрудничество с вузами по разным направлениям. В частности, в разработках своего софта для сварки, термообработки и аддитивки мы тесно сотрудничаем с Институтом физики металлов УрО РАН и УРФУ. К исследованиям привлекались около 50 докторов и кандидатов наук из этих организаций. Также мы тесно сотрудничаем с кафедрой «Технология машиностроения» УРФУ, и ряд наших сотрудников — их выпускники. А в процессе учебы многие студенты проходят практику на нашей базе. Там же, в УРФУ, наши сотрудники периодически преподают.
Хотелось бы особо отметить партнерские взаимоотношения с СПБПУ (Питерский Политех), где не только ведется работа по оказанию услуг, но и идет продвижение собственных разработок совместными усилиями.
С некоторыми вузами (ПНИПУ, ЮРГУ, УГАТУ и пр.) осуществляется работа в рамках передовых инженерных школ (ПИШ).
 - В завершение беседы поделитесь, пожалуйста, планами на обозримую перспективу. Какие цели и задачи ставите перед своей командой?
- В завершение беседы поделитесь, пожалуйста, планами на обозримую перспективу. Какие цели и задачи ставите перед своей командой?
- За 35 лет на рынке внедрения PLM мы пережили пять кризисов. Как говорят китайцы: «Не дай бог жить на переломе эпох». Мы поступательно развиваемся, потенциал команды позволяет смотреть в будущее с позитивом. За счет наращивания объема инженерных услуг, заключения дилерских соглашений с отечественными вендорами, а также за счет разработки своих программным продуктов мы смогли восстановиться после 2022 г. и продолжаем расти.
В ближайшей перспективе планируем организовать Центр компетенций по продвижению ПО «ЛОГОС» (отечественный аналог ANSYS), что существенно расширит географию пользователей.
Планируем ускоренное развитие перспективных направлений: системная инженерия, развитие концепций «цифрового прототипа» (CAE+PLM), «цифровой двойник», DNA (обследование уровня цифровой зрелости), 1D-анализ, создание расчетных цепочек и прочих инновационных трендов.
Планируем опережающий рост по услугам интеграции. Сегодня наши ведущие вендоры в области PLM (в частности, «Аскон») собственными силами не успевают внедрять свои продукты. В связи с импортозамещением у них очень большое количество заказов и проектов. Поэтому мы надеемся и дальше развивать направление интеграции и внедрения продуктов отечественных PLM вендоров.
С целью увеличения объема инженерных расчетов на заказ и инжиниринга будем выходить на долгосрочные отношения с VIP-клиентами. Для нас это очень хорошо, потому что здесь мы уже не зависим от вендоров. Оба направления, продажа лицензий («коробок») и услуги (интеграция и расчеты на заказ), практически сравнялись по обьемам прибыли. В будущем стремимся обеспечить за счет услуг более половины доходов компании.
Разработку собственного ПО планируем вести за счет средств господдержки либо за счет собственных средств и активно развивать его, потому что есть ряд ниш, где у нас высокая квалификация. Ее надо монетизировать, делать хорошие продукты, тем более, что существует огромная потребность в замене зарубежных аналогов. В частности, планируем наращивать продажи SIMMAX. Идут контракты с ОДК и «Техмашем», где мы написали софт для системной инженерии. Идет разработка софта для «аддитивки» с госсубсидией. В 2025 г. появится первая версия.
В планах дальнейшее развитие экспортных продаж ПО и услуг в дальнем и ближнем зарубежье (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Африка).
Скачать интервью Владимира Жураховского для журнала «Connect»
Источник: журнал «Connect»